
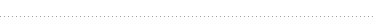
В зрачке моих глаз найди себе родину…
Алишер Навои
Слушай,
увязший в лунные краски,
в долгие ночи осенних садов,
сам Самарканд
прошептать свои сказки
древним узбекским селеньям готов.
Слушай же, сердце,
не спи, мое сердце,
скорбь просыпается в каждой стене —
в каждой стене открывается дверца
в прошлое,
чтобы очнуться во мне.
Годы-гонцы пролетают галопом,
воспоминания все тяжелей.
Стены в песок собираются скопом,
их сиротливость хоть ты пожалей!
Впрочем, не сердце!
Что — сердце?
Что — стены?
Без памяти сердце —
само сирота.
Кто скажет сегодня;
‘Я был Спитаменом’,
В каком из сердец есть к тому широта?
Без памяти очи
и те- сиротливы:
ни горе, ни радости
их не слезят.
Куда ни посмотрят —
повсюду разрывы,
везде в пустоту упирается взгляд.
Но море — глаза,
Да, глаза мои — море,
на донышке сердца
их вечное дно.
И всякая радость,
и всякое горе —
для сердца как буря, как вихрь —
все одно.
На сердце моем есть великие стены,
они — Спитамену пределы страны.
И все, что случилось — прошло непременно
дорогой, идущей вдоль этой стены,
Поэт -это трещина, око народа.
И пусть поволокой не скроет глаза.
Пусть слово — зрачок,
что крупинка в породе,
что перл в перламутре,
что в небе звезда.
Поэт — это в пламени вечные стены,
и временем сорванный с дверью крючок.
Ведь все, что случилось,
прошло несомненно
сквозь этот сгоревший
и черный зрачок.
Повсюду пожары.
Повсюду пожары.
Горят манускрипты,
поэты горят.
Охвачено молнией древо Стожаров,
кровавые искры небо корят…
Горит это небо,
бегут языками
все выше и выше,
все злей облака.
Двенадцать ворот
горят под замками —
впуская огонь,
что не знает замка…
По Афрасиабу,
маша своей саблей,
идут как соратники —
пламя и смерть.
Они ненасытны:
пожаром и кровью
залиты земная, небесная твердь.
…Бадави вбегает в комнату эту,
и вдруг, как подкошенный,
падает ниц.
Смотрят со стен обжигающим светом
тысячи глаз из-под жгучих ресниц,
Он бледен как труп…
В жилах кровь застывает.
Деревенеет дерево жил.
И в гневе Бадави
меч свой вонзает
в каждый глаз,
что свой свет обнажил.
Взвывает Кутайба,
в глазах его — дикость:
Выкалывай их!
Не оставь и следа!’
И в эту минуту
с каждого лика
глаз вытекает,
как Согд,
навсегда…
Афрасиаб, глянь на древние стены,
там розы тоскуют по вечным глазам.
На ликах надрезаны гневные вены,
и гнев потянулся рукою к ножам.
Пришелец, баскак, не смиряющий гнева,
он чуть ли не давится злобой своей.
Но если нет глаз, чтобы видеть небо,
еще есть рука для кинжала, ей-ей!
Рисунки на стенах. Куда отступать им?
Лишь луч проскользил по вечерней стене,
рассыпав глаза, как строительный шпатель,
или как враг, что прошел на коне.
Какое же горе, когда не посмотришь,
зрячим баскакам прямо в глаза!
…Враг повернет, и пройдется как морось,
след — это глаз, а плевок — как слеза…
Солнце садится…
Ночь загорится.
Огонь побежит от звезды к звезде.
О, это не звезды —
глядят сквозь ресницы
Афрасиабовы очи везде.
Со стен соскобленные очи.
О, очи,
Солнцем кровавым
пролейтесь вы в ночь!
Смотрите:
Афрасиаб у обочин
рыдает,
из времени изгнанный прочь,
Головы, словно садовые розы,
срезают враги
и мечом, и ножом.
А тот, кто восстал против этой угрозы —
вперед умерщвлен
или мертвым рожден.
…Той ночью ужасной
почти до рассвета
в домах у живых
не гасилась свеча.
Плакала ночь,
в черный траур одета.
Но люди вышли солнце встречать…
И солнце проснулось!
О мать моя — Солнце!
К тебе протянула руки страна.
Ты к ранам приникло,
сказало: ‘Запомни все,
пусть будет терпенье твое —
как стена!’
Мать с вытекшим глазом,
смежившая веки,
дитяти луноликому
дала свою грудь.
И вдруг задрожала стена:
‘Эти дети —
они не слепы, не забудь!
Не забудь!’
И в детских глазах
в то мгновенье всплеснули
слезы.
И камень их поглотил.
Ночью луна их в лучи пеленала,
солнечный луч
им днями светил.
(Пусть этот свет будет вечным.
Пусть светят
в сердце лучи, и лучинки в глазах.
Они выстилают дороги к победам,
они —
очистительная гроза…)
Родина, мама,
одна, словно солнце.
Мама, которой выколов очи,
дали ребенком меня среди ночи:
кровь с молоком ее разве вспомнится:
Пустые глазницы кричат без конца:
— Нет и нет!
И слезы с ресниц, и слезы лица:
— Нет и нет!
Книги сгорели,
поэтов сожгли,
следов их напрасно не ищи!
Да только вытравить не смогли
великое: ‘Нет!’ из горящей души-
‘Пустые глаза,
вновь увидим ли мы?’
-Да!
‘Пустые глаза, лишимся ли тьмы?!’
-Да!
Я до сих пор
ношу в своем сердце
тяжесть извечную —
Афрасиаб.
Пустые глазницы —
свидетели смерти —
на солнце извечном
извечно стоят.
…Пустые глазницы?
Ведь это — не розы,
не золотые
в крови
таньга.
Раны, раны, раны
до дрожи.
Раны от острия клинка!
Пустые глазницы?
Ведь это — не розы.
И все же как розы…
К губам поднеся,
я их целовал,
я плакал, как воздух,
который воем
с земли поднялся.
И сколько б не вытекло пламенной крови,
и сколько б не вытекло крови из вен,
в долгу неизбывном я перед народом,
в долгу перед святостью этих стен.
…О Родина, если тебя я рисую,
о если рисую твои я глаза,
пусть буду в глазах сожалением всуе,
пусть буду последним, как эта слеза.
Но если забуду руки в мозолях
сестрички, что спину над хлопком гнет,
пусть дальше идти мне тропа не позволит,
пусть ветер как нож
меня вдвое согнет!
И если забуду я тех,
кто народ мой
за стадо почел
и повел — кто куда,
пусть кашель мальчишки,
почти что загробный,
в ушах моих стонет
всю ночь
как беда.
Неужто забуду на свете я
женщин,
которые, света не видя, слегли,
кого в восемнадцать не враг покалечил,
а хлопок зарыл
среди голой земли.
Ведь если забуду
я тех, кто разграбил
гробницу Махмуда Тараби,
меня самого те печали отравят,
которые я в пустоту проводил.
И все равно я нарисую всю правду,
и все равно я поверю: ты — песнь.
О родина, пусть поглотят меня травы,
нежель беспамятство или же спесь.
Сегодня в разломах этой эпохи
сверкает образ извечный твой.
Но все кровоточат раны,
и плохо
сердцу,
когда их касаюсь губой.
Лицо загорелое солнцу подставив,
идешь, прижимая хлопок к груди.
Но кто убедит,
что ножи не наставят
тебе палачи твоих глаз впереди?
И солнце на небе сверкая,
чернеет:
на вытекший глаз похоже оно.
Похоже на Слово,
что в сердце сильнее,
сильнее стучит
и взрастает давно.
И как бы клинки у врагов ни точились,
они лишь мне множат
и гнев мой, и месть.
Зрачки моих вытекших глаз просочились
чернилом на лист —
откуда, бог весть.
И вслед им взвывают
пустые глазницы,
как будто пораненные два льва,
и слезы текут как моря,
и зарницы,
и только стихи мои-
как острова…
1977-86
Перевод Хамида Исмаилова

