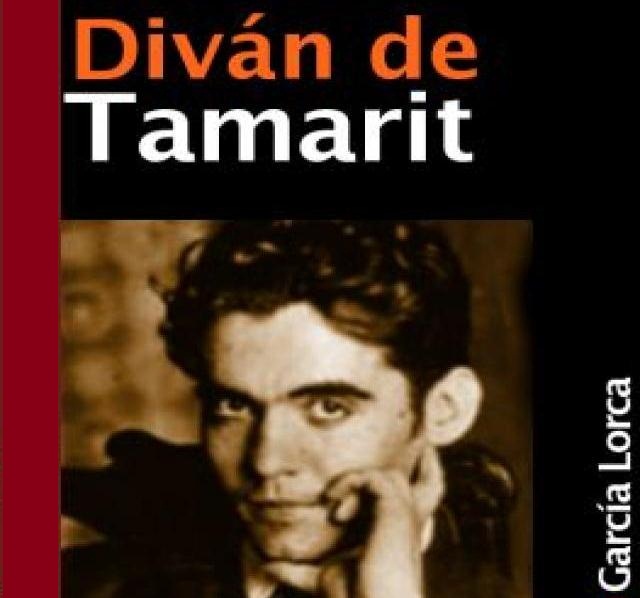
В 1928 году Федери:о Гарсиа Лорка, пребывающий в естественной творческой депресии после написания знаменитого «Цыганского романсеро», в живописном сердце Андалусии — Тамарите, Андалусии садов и полей, снежных пиков Сьерры Невады и красных башен Альгамбры, записывает: «Андалусия — неимоверная! Запад без яда, Восток без действия.» Здесь, в последнем королевстве мавров в Европе, он обращает свой взор к мусульманским поэтам Гранады, к Хафизу, к его «возвышенным любовным газеллам» и восклицает: «Моя поэзия развернула крылья для полета!»
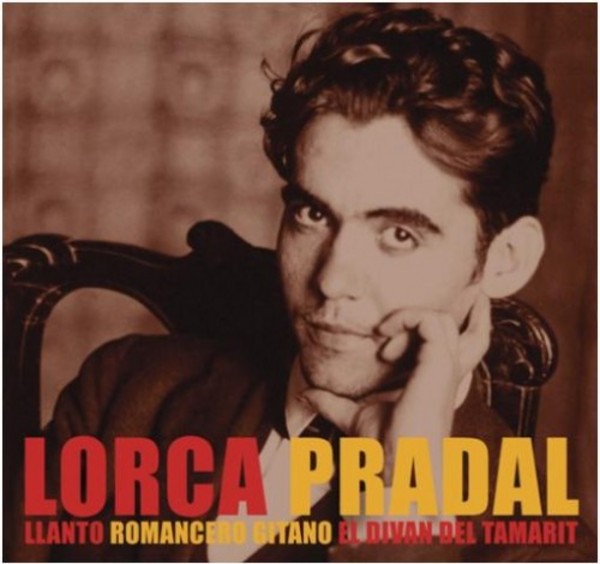
К поэтике «Дивана Тамарита» Лорки
Hamid Ismailov
Abstract
The author researches «Divan del Tamarit» of Federico Garcia Lorca from the point of view of a traditional classic Ghazal — a form of love poem, which was born in Arabic poetry but has blossomed in medieval Persian and Turki. He draws out a generic model of a Ghazal, which consists of five elements: a Lover (Seeker), a Beloved (God), Separation between them, Forces, assisting them and Opposing forces, which according to the author is a universal pattern of human activity. Then he analyses Gacelas of Lorca against the model and finds out, that though Lorca keeps the main elements of this scheme, he also innovates over it.
So, if the classic Ghazal preconditions the alienation of a Lover and his Beloved, Lorca shifts the relationship to another level: his Lover has got a Beloved, but haven’t got her answer. In the case of the classic Ghazal a poet describes his relationship with his Beloved, whereas Lorca concentrates on the relationship of his Beloved to him. A classic poet was introvertly in the field of his own feelings, but Lorca extrovertly depicts his beloved. For a classic poet imagination is the space, where he puts his love. As for Lorca, he moves his beloved into the space of memory. The author of the research tries to explain those two idiostyles of poetry.
English version at transoxiana.org/0107/ismailov-divan_tamarit-en.html.
 При обращении к великим именам всегда существует соблазн заменить само непосредственное отношение рядом ничего не значащих, но традиционных словесных фигур: «выдающийся», «чудо», «неповторимость» и т.д. Этот соблазн собственно и подчёркивает ту грань позволяющая нам различать по обе стороны «традицию» и «новаторство», хотя традиция не есть просто повторение, а новаторство — не лишь обновление.
При обращении к великим именам всегда существует соблазн заменить само непосредственное отношение рядом ничего не значащих, но традиционных словесных фигур: «выдающийся», «чудо», «неповторимость» и т.д. Этот соблазн собственно и подчёркивает ту грань позволяющая нам различать по обе стороны «традицию» и «новаторство», хотя традиция не есть просто повторение, а новаторство — не лишь обновление.
Эти соображения с одной стороны лишают меня необходимости описывать величие Лорки, Хафиза, Навои или Ибн-Хазма, и с другой стороны, сразу включиться в суть того о чем я хочу сказать.
В 1928 году Федерико Гарсиа Лорка, пребывающий в естественной творческой депресии после написания знаменитого «Цыганского романсеро», в живописном сердце Андалусии — Тамарите, Андалусии садов и полей, снежных пиков Сьерры Невады и красных башен Альгамбры, записывает: «Андалусия — неимоверная! Запад без яда, Восток без действия.» Здесь, в последнем королевстве мавров в Европе, он обращает свой взор к мусульманским поэтам Гранады, к Хафизу, к его «возвышенным любовным газеллам» и восклицает: «Моя поэзия развернула крылья для полета!»
Так отмечено начало работы над самой последней и самой, быть может совершенной книгой Лорки, так и не увидевшей свет при жизни поэта — «Диваном Тамарита».
Надо сказать, что в восточной поэзии диваном называется собрание газелей и других стихотворных форм, расположенных в определенном порядке, а именно в арабском алфавитном порядке окончания бейтов, т.е. первые газели оканчиваются на «алиф», следующие на «ба» и т.д.
«Диван Тамарита» Лорки состоит из 12 газелей и 9 касыд. Разумеется, формальному признаку, относящемуся к правилам формирования диванов канонического типа, Лорка не следовал. Однако некоторые, столь же казалось бы формальные приёмы, отличающие газели и касыды от других стихотворных форм, им соблюдены. О них мы скажем ниже.
Если обращаться вслед за Лоркой к истории восточной поэзии, то нам пришлось бы изучить множество разнообразнейших источников: огненные проповеди Заратуштры («Я работаю огнем»- говорил Лорка), бедуинскую «Муаллаку» Имруулькайса («Я ничего не слышу кроме плача» — вторил ему Федери:о), совершенство газелей Хафиза и Навои («О губы твои, в час моей кончины»- заклинал поэт) и многое другое. Ограничимся поэтому лишь рассмотрением такой традиционной формы восточной поэзии как газель.
Газель, как поэтическая форма, стала складываться, как известно, в IX-X веках в арабской поэзии, но своего совершенства и, в некотором роде, канонизации она достигла в творчестве Хафиза. Именно после Хафиза строго соблюдаются определённые строфические, композиционные, семантические особенности, а именно:
1) написание газели бейтами или двустрочиями,
2) рифмовка бейтов по типу: а-а, б-а, в-а, и т.д.,
3) использование редифа, повторяющейся группы слов или слова в конце строки,
4) обозначение при помощи тахаллуса авторства газели и т.д.
В настоящее время поэтика традиционной газели, как стихотворной формы, казалось бы изучена достаточно полно, и здесь следует назвать в первую очередь работы Е.Э.Бертельса, Я.Рипки, И.В.Стеблевой, А.Хаитметова и др., в которых выявлена формообразующая роль различных элементов газели, особености её композиции, семантики и т.п. Если сконцентрировать итог исследований газели, то первоначально можно сказать, что газель, с одной стороны — чисто лирическая форма, характеризующая прежде всего внутреннее состояние, а не внешнее действие, а стало быть являющаяся в большей степени высказыванием о пребывании, а не становлении, и с другой стороны — газель характеризуется наличием двух семантических полей: «я» — лирического героя и «ты» или «она» — его возлюбленной, которые взаимно непроницаемы. Напряжение, задаваемое разрывом этих двух полей (разлука, разрыв, недостижимость и т.д.) и есть поэтическое, эмоциональное напряжение газели, её этос.
Об этом, в той или иной форме, говорится как и в арабских трактатах о газели Х-х веков, так и в наиболее современных исследованиях.
Кроме этого противопоставления «я-ты» или «я-она» есть ещё ряд оппозиций: «я-противник», «я-сострадатели» (шейх, кравчий, лекарь, люди и др.) Если суммировать весь мир газели, то её морфология, как правило, такова: на одном полюсе «я» — лирический герой, на другом — «ты» или «она» — возлюбленная, между ними — непреодолимое пространство их отношений, а также, тяготеющие к лирическому герою добрые, сострадающие, потворствующие и способствующие силы, и приближённое к возлюбленной враждебное, противостоящее, противодействующее начало — противник.
Универсальность подобной морфологии очевидна. В различных исследованиях газели предпринимались уже попытки вычленения этих «семантических полей» с той или иной степенью детализации, однако, к сожалению, ни об универсальности этой схемы, ни о приложимости её к различным сферам духовной жизни, исследований нам обнаружить не удалось. Иными словами, эти «действующие силы» газели сведены в реестр, однако универсальный характер динамики этой системы, как мыслительного конструкта, как фигуры мысли остался вне поля умозрения. Между тем, предпринимаемые разделения газели на различные жанровые подвиды: любовные, суфийские, пародийные, проповеднеческие, пейзажные, публицистические и др., в достаточной степени показывают широту приложимости этого пятичленного инварианта, который, как видно из этого же перечисления, может быть соотнесён почти со всеми видами человеческой духовной деятельности. В этом инварианте наличествует такая универсальная конструкция: с одной стороны — субъект деятельности, с другой — её объект, сама деятельность, форма которой собственно и даёт жанровую определённость газели, и то, что можно назвать условиями деятельности, причём эти условия могут как способствовать деятельности (положительная обусловленность), так и противодействовать (отрицательная обусловленность).
Поскольку подавляющая часть классических газелей носит любовный характер, то морфология газели в определённой степени может быть истолкована, говоря скучным языком, как морфология коммуникативной деятельности. В определённой степени потому, что грех говорить о любви такие слова, поскольку в ней находят приют и эстетика, и этика, и познание, но то что важно для нас здесь — что она — межчеловечна.
Опять возвращаясь к скучному языку и рассматривая газель как поэтическую модель коммуникативного акта, нельзя не заметить внутренней пародоксальности этой поэтической формы. С одной стороны, газель, как описание жгучего стремления лирического героя ко встрече со своей возлюбленной (в суфийских газелях слиянию со Всевышним), ориентирована на потенциальную диалогичность даже в том, что предполагает существование возлюбленной или Всевышнего, или как бы назвали мы в терминах теории коммуникации — реципиента сообщения, но вместе с тем, будучи лирическим высказыванием, она остается в пределах монологизма или монодийности. Это противоречие и есть, видимо, главное смыслообразующее противоречие газели как поэтической формы, порождающее её эмоциональную заряжённость и напряжение.
Сравнение газели с пружиной, подспудно намеченное в предыдущем рассуждении, действительно во многом правомерно вот в каком смысле. Широко бытует взгляд на газель, как на нанизывание однородных бейтов. Более глубокой разновидностью этого взгляда является уподобление газели колесу с центральной втулкой (главный бейт) и расходящимся от неё спицам (Я.Рипка).
Советский исследователь И.В.Стеблева в своей книге о газели Бабура показала, что газель, и в частности газель Бабура обладает и линейной композицией: матлаъ — первый бейт — зачин и основа, второй бейт — развитие зачина, третий бейт — предкульминационный, пятый бейт — мактаъ — финальный, как правило, разрешающий. Оба эти понимания — циклический и линеарный, отражают, видимо, лишь один из моментов структуры газели, и если на уровне бейта, действительно можно говорить о зацикленном характере поэтического высказывания, то с точки зрения газели, как композиционного единства, она обладает всеми сюжетообразующими элементами.
Но следует заметить, что сюжетообразование в газели мнимое и это обстоятельство как вытекает, так и продолжает наши предыдущие рассуждения о внутренней противоречивости газели как речевого высказывания. А именно, при заведомой самообращенности высказывания — его лирический, монодийный характер (участие в коммуникации другого лица является условным, и мнимое движение сюжета есть лишь накопление потенциальной энергии) есть сжатие или натяжение спиральной пружины собственно высказывания до кульминационного предела.
Прежде чем истолковывать природу поэтики классической восточной газели, как «нулевого уровня» для рассмотрения газелей Лорки, необходимо сказать, что подобная внутренняя противоречивость прослеживается почти во всех формальных образующих жанра газели. Рифмовка по типу: а-а, б-а, в-а, и т.д. есть сочетание переменной и постоянной, отклонения и нормы, отсутствия рифмы в первых строках бейтов и монорима во вторых. Точно также и повтор редифа есть сочетание постоянной группы слов или слова с переменным окружением, он же есть диалектика текста, включённого в различный контекст, обнаружение посредством этого новых граней редифа. Можно назвать эту оппозиционность диалектикой статики и динамики, нормы и отклонения, канона и импровизации, или ещё фундаментальней — бытия и становления.
Разнообразя эти оппозиции и совмещая их с философией газели, можно сказать, что в газели есть мотив, но нет поступка, есть мысль, но нет действия.
Противоречивость эта продолжена и в арузной метрике газели.
Единый принцип, проведённый через разного уровня элементы газели, заставляет предположить как некую иерархичность этих построений, так и соотнести эту иерархичность с фундаментальными основами самого мышления и мировоззрения средневековых восточных поэтов.
До сих пор мы говорили большей частью о формальных элементах газели, теперь же, подходя более широко к проблеме поэтики газелей, рассмотрим к примеру, знаменитую газель Навои с редифом «Келмади» («Не пришла»).
Кеча келгумдур дебон ул сарви гулру келмади,
Кўзларимга кеча тонг откунча уй?у келмади.
Лахза-лахза чиктиму, чектим йулида интизор,
Келди жон огзимгау ул шухи бадху келмади.
Оразидек ойдин эрконда гар этти зхтиёт,
Рузгоримдек хам улгонда коронгу келмади.
Ул париваш хажридинким йигладим девонавор,
Кимса бормуким анга курганда кулгу келмади.
Кузларингдин неча сув келгай деб ултурманг мени
Ким бори кон эрди келган бу кеча сув келмади.
Толиби содик топилмас, йуксаким куйди кадам
Йулгаким аввал кадам маъшука утру келмади.
Эй, Навоий, бода бирла хуррам эт кунглунг уйин
Не учунким бода келган уйга кайгу келмади.
На узб. кириллице:
Кеча келгумдир дебон ул сарви гулрў келмади,
Кўзларимга кеча тонг от?унча уй?у келмади.
Ла?за-ла?за чи?тиму чектим йўлида интизор,
Келди жон о?зим?аву ул шўхи бадхў келмади.
Оразидек ойдин эрканда гар этти э?тиёт,
Рўзгоримдек ?ам ўл?онда ?орон?у келмади.
Ул париваш ?ажридинким йи?ладим девонавор,
Кимса бормуким анга кўрганда кулгу келмади.
Кўзлариндин неча сув келгай деб ўлтурманг мени,
Ким бори ?он эрди келган бу кеча сув келмади.
Толиби соди? топилмас, йў?саким ?ўйди ?адам,
Йўл?аким аввал ?адам маъшу?а ўтрў келмади.
Эй Навоий, бода бирла хуррам эт кўнглунг уйин,
Не учунким бода келган уйга ?ай?у келмади.
На узб. латинице:
Kecha kelgumdir debon ul sarvi gulro’ kelmadi,
Ko’zlarimga kecha tong otquncha uyqu kelmadi.
Lahza-lahza chiqtimu chektim yo’lida intizor,
Keldi jon og’zimg’avu ul sho’xi badxo’ kelmadi.
Orazidek oydin erkanda gar etti ehtiyot,
Ro’zgorimdek ham o’lg’onda qorong’u kelmadi.
Ul parivash hajridinkim yig’ladim devonavor,
Kimsa bormukim anga ko’rganda kulgu kelmadi.
Ko’zlarindin necha suv kelgay deb o’lturmang meni,
Kim bori qon erdi kelgan bu kecha suv kelmadi.
Tolibi sodiq topilmas, yo’qsakim qo’ydi qadam,
Yo’lg’akim avval qadam ma’shuqa o’tro’ kelmadi.
Ey Navoiy, boda birla xurram et ko’nglung uyin,
Ne uchunkim boda kelgan uyga qayg’u kelmadi.
Мы отдаём себе отчёт в том, что нам педантично придётся поверять «гармонию алгеброй» и там, где быть может излишни всякие слова — столь самодостаточна газель, — мы станем её дотошно анализировать, и всё же пусть ряд предстоящих парадоксов начнётся с этого: комментарии («шарх») необходимы, там, где комментарии излишни.
Прежде всего заметим, что та газельная модель, вычлененная нами, выдержана здесь почти полностью. Здесь наличествует семантическое поле лирического «я», семантическое поле, в котором располагается «она», есть непреодолимое поле разлуки, есть сострадатели «кимса», к которым обращается лирический герой: «деб ултурманг», есть отрицательно маркированный «топилмас» «толиби содик»; наличествуют в этой газели и два главных компонента газельной темы: изображение любовных переживаний лирического героя и изображение красоты возлюбленной, которые находятся в позиции противопоставления. Можно было бы далее построчно разбирать мотивы каждого мисра, однако подобная методика обстоятельно описана и использована И.В.Стеблевой при анализе газелей Бабура, и это освобождает нас от подобного пути исследования.
Что касается сюжетообразования, то первая же мисра первого бейта: «Кеча келгумдур дебон ул сарви гулру келмади», исчерпывая сюжет, вытесняет всё остальное в сферу мнимости, условности, возможности. Иными словами, газель начинается парадоксально: с исчерпанности фабулы газели. Нельзя не заметить и другого парадокса на этом же, метаязыковом уровне, которая характерна, впрочем, и для других газелей, а именно, будучи с одной стороны описанием жгучего стремления лирического героя ко встрече со своей возлюбленной, газель ориентирована на потенциальную диалогичность даже в том, что предполагает существование возлюбленной, но вместе с тем, она остается лирическим высказыванием, не преодолевающим пределов монологизма или же монодийности.
Рассмотрим, как строятся в этой газели пространственно- временные отношения. Что касается пространства лирического героя, то не задавая первоначально его пространственных координат, кроме предположительных, переданных через временные рамки: «тонг откунча», Навои строит пространство в дальнейшем таким образом: «чикдиму… йулида», «ойдин эрконда», «кимса бормуким анга курганда», иными словами, всё происходит казалось бы в открытом пространстве. Но затем идёт свёртывание пространства через «кузларингдан неча сув келгай», условный шаг в пустоту, где нет любимой: «йукса ким куйди кадам», и наконец, заключительный бейт замыкает и обнимает все предыдущие пространственные координаты «домом сердца», «домом души» «кунгул уйи». Теперь можно не предполагать, а заключить, что отсюда же, из этого пространства начиналось первоначальное движение. Иными словами, пространство, задаваемое как внешнее и расширяющееся по числу координат и по духовному качеству: дорога-лунность-разлука, оказывается внутренним пространством души, пространством, в которое не пришла любимая.
И с другой стороны, построенное поначалу пространство мысли, воображения, в котором сосуществуют разделённые лирический герой и его возлюбленная, постепенно воплощается через всеобщее «кимса» (некто), существование которого гипотетично, условно, абстрактно. Затем, этот «некто» получает статус собеседника, но в той же степени гипотетично персонифицированного, вслед за этим он обращается в единственного «толиби содик», которого также не существует. Но существует в своей собственной отчуждённости поэт, спасительное отчуждение которого формально закрепляется с помощью тахаллуса, когда он обращается к самому себе: «Эй, Навоий…» Иными словами, в отрицательном пространстве разлуки остаётся отчуждаемое имя поэта и такой ценой сам поэт оставляет за собой возможность иного, внетекстового пространства.
Подобное понимание роли и значения тахаллуса в этой газели позволяет предположить, что здесь эти опосредующие силы: «кимса», «толиби содик» и т.п. являются функциями лирического «я» поэта в его измерениях: «я» — «не я», «я» — «единичное», «я» — «особенное», «я» — «всеобщее».
Итак, здесь можно обнаружить, как и в первом случае, двойственность в фиктивности реального до деталей (дорога- лунность-люди, некто-верный проситель-Навои) пространства, стяженного в абсолютное пространство духа.
Столь же двойственно и время газели. В первом же бейте задаются как бы временные рамки «кеча-тонг откунча». Но внутри этих рамок время строится следующим образом: «лахза- лахза чикдиму» — «ойдин эрконда» — «улгонда коронгу» — «кимса курганда» (очевидно не ночью) — «аввал кадам куйганда» — «бода бирла хуррам эт кунгул уйин» (видимо опять вечером). Как видно из этих временных или псевдовременных координат, время в газели то последовательно, линеарно: «кеча-тонг», то опять и опять возвращается к самому началу обещанного свидания началу этого «келмади», которое мечется во времени, то забегая вперёд, то возвращаясь к своему началу. Это начало и есть исход. Интересно, что если построить ряд действий лирического героя от этого начального «келмади»: «чикдиму, чекдим йулида…» — «йигладим» — «кимса бормуким анга курганда» — «бода бирла хуррам эт кунгул уйин» просматривается некая последовательность, но вместе с тем эта последовательность фиктивная, условная, поскольку она и временными маркерами («лахза-лахза»), и косвенно, через длительность глаголов («йигладим», «топилмас», «хуррам эт») лишается времени, сводясь к единой длительности, плоскостному полю настоящего, помещённого не столько в рамки указанного «кеча- тонг откунча», сколько в круговую бесконечную длительность или настоящесть этого «келмади».
Время есть логика, есть детерменизм, алогичность же этого «келмади» порождает соответствующее вневременное, нелинейное пространство чувств. И ещё следует сказать, что в пределах бейта, как правило, есть детерменизм, есть линеарность времени, и именно из этих дискретностей готовится прорыв за одномерность времени, в некий временной объём. Иначе говоря, разнонаправленные временные векторы отдельных бейтов дают в итоге объёмный, многомерный континуум состояния.
Итак, заметим эту двойственность и внутреннюю противоречивость построения пространства и времени газели. Что касается архитектоники этой газели, то в ней чрезвычайно наглядно и искусно выдержана симметрия композиционного построения, также несущая семантическую и общеэстетическую нагрузку. Если придерживаться циклического понимания композиционного строения газели с выделением смыслового центра — «нукте» по Я.Рипке, то можно заметить, что относительно четвёртого бейта, являющегося центральным по своему архитектоническому расположению, бейты зеркально симметричны по семантической нагруженности. Так, в З и 5 бейтах опорными словами образов являются части человеческого тела (лицо, глаза), соотнесенные в обоих случаях с природой (лунность, вода), во 2 бейте, как и в 8 опорной является «дорога», на которую выходит лирический герой, и наконец, матлаъ и мактаъ, являясь рамкой, задаёт и завершает саму тему газели: не пришла любимая, как и сон, но придёт опьянение и от самого ожидания, и от вина, дарующего сердцу радость. Не пришла она, не пришла печаль…
Это попарное соотнесение бейтов уже показывает, что наряду с семантической и композиционной симметричностью относительно центрального бейта, построенного предельно контрастно:
Ул париваш хажриданким йигладим девонвор,
Кимса бормукин анга курганда кулгу келмади,
в зтих парах бейтов происходит нечто качественное иное, изменяющееся. Так, к примеру, дорога во 2 бейте, бывшая её дорогой, на которую выходил лирический герой и страдал от ожидания, в 8-м бейте становится дорогой всеобщего отсутствия как верного просителя, так и возлюбленного, ведь иначе, «ступивший шаг первым, встретился бы с любимой…» Невозможность этого шага и есть линейная кульминация всей газели в точке её предельного обобщения.
В свою очередь обобщая и нам, можно сказать, что казалось бы через круговую композицию газели идёт сквозная направляющая эмоционального нагнетания, которая отчетливо проявилась при соотнесении пар симметричных бейтов. Здесь как бы происходит смыкание, наложение циклического и линеарного понимания форм сюжетообразования газели, но поскольку, как мы уже сказали, сюжетообразование здесь мнимое, то это мнимое движение сюжета есть лишь накопление потенциальной энергии, есть сжатие или напряжение спиральной пружины поэтического высказывания до кульминационного предела.
Далее следует ещё более обобщённо сказать, что противоположение в газели «я» и «ты», лирического героя и возлюбленной отражается во всех смысло- и формообразующих структурах газели. Так, наряду с указанными, на метаязыковом поэтическом уровне это, к примеру, оппозиция логики и металогики, представленная с самой первой строчки: «ул сарви гулру келмади». Здесь одновременно с указанной оппозиционностью есть внутренняя парадоксальность в том, что если читать это высказывание с точки зрения формальной логики, то «сарви гулру» «цветоликий кипарис» при всей его красоте, прийти не должен. Считывающая машина объяснила бы так: «деревья не ходят». И с этой точки зрения предложение выглядит истинным. Но при металогическом прочтении, когда мы заведомо допускаем «невзаправдышность» этого «сарви гулру», мы с той же доверчивостью потрясены её обманом: «Кеча келгумдур дебон ул сарви гулру келмади…» Вообще, тема металогической подмены одного другим, для его же постижения особо разработанная в поэтике газели в форме теории поэтических фигур и теории суфийской символики это тема отдельного разговора, хотя её мы вкратце коснёмся чуть позже. Здесь же достаточно заметить эту диалектическую оппозиционность и на этом уровне.
Если брать метроритмический уровень, то сочетание двух мисра в одном бейте с их рифмовкой по схеме: а-а, б-а, в-а и т.д. есть сочетание переменной и постоянной, отклонения и нормы, отсутствия рифмы в первых мисра бейта и монорима во вторых. Точно также и повтор редифа «келмади» есть сочетание постоянно повторяющегося одного и того же слова с переменным окружением. Это всякий раз тоже самое «келмади» и всякий раз иное, обнаруживающее свои новые и новые грани. У этого рода оппозиций много названий, их можно называть диалектикой динамики и статики, прерывного и непрерывного, нормы и отклонения, канона и импровизации и т.д. и т.п., вплоть до философски предельно обобщённых бытия и становления.
Эта же внутренняя противоречивость при внешней полярности продолжена и в арузной метрике газели. Поскольку тема: аруз в узбекской или шире, в тюркской поэзии зто также тема отдельных проведённых и непроведённых исследований, то мы здесь заметим лишь несколько интересующих нас аспектов. Противоречивость арузной метрики в узбекской классической поэзии, в частности и в анализируемой газели, состоит на наш взгляд в том, что первоначально рассчитанный на квантитативную природу арабского языка и стихосложения, он был и является достаточно искусственным теоретическим построением в квалитативной стихии тюркских языков, хотя и имеющим значительное число предпосылок к трансформированному бытованию. Поясним зто маленьким примером из рассматриваемой газели, написанной в метре рамали-мусанмани-махзуф (о о о о -).
Вот первый бахр второго бейта:
Лахза-лахза
Видно, что один и тот же слог «-за» одного и того же слова «лахза» здесь приравнивается то к короткому, то к долгому слогу. Пародоксально? Да.
Иными словами, нет нормативной закреплённости определённого рода слогов за определённым местом в метрической решётке узбекского аруза. Есть одно обстоятельство, которое не берётся во внимание исследователями при изучении бытования аруза в тюркском, в частности узбекском стихосложении, а именно: нормативно кочующий характер ударения в узбекском языке при аффиксальном наращивании слова:
иш, иш-чи, иш-чи-лар, иш-чи-лар-и, иш-чи-лар-и-миз, иш-чи-лар- и-миз-да, иш-чи-лар-и-миз-да-ги, иш-чи-лар-и-миз-да-ги-си и т.д.
Подобное смещение ударения, когда первоначально ударный слог оказывается то предударным, то пред- предударным и т.д. создаёт чрезвычайно широкие вариативные возможности метрической организации стиха. А при трансформации долготности в акцентность, это обстоятельство выступает одной из причин и предпосылок бытования аруза в узбекском стихосложении. Можно было бы показать внутреннюю двойственность и в других элементах метроритмики этой, а также других газелей, можно было бы продолжить подобный анализ фонетики стиха с вычленением решётки гласных и т.д. и т.п., однако и приведённых фактов достаточно для того, чтобы предположить единый принцип, который проводится через разноуровневые элементы газели и создаёт некую иерархичную чрезвычайно гибкую мыслительную структуру, соотносимую с фундаментальными основами человеческого мышления и духовной деятельности.
Итак, прежде чем переходить к анализу газелей Лорки, ещё раз подведём итог тому, что же такое восточная газель? Вот её общие элементы:
а) газель — универсальная поэтическая форма. Её универсальность заключается как и в её тематическом разнообразии, так и в универсальном характере её структуры,
б) под универсальным характером структуры газели следует понимать её устоявшиеся элементы: наличие противоположных сематических центров «я» и «ты» («она»), их отношений, а также сил, способствующих или препятствующих их отношениям, что с одной стороны представляет модель человеческой деятельности, и прежде всего, коммуникации, и с другой стороны, корреспондируя с соответствующей повествовательной морфологией по Проппу — Бремону, является разновидностью универсального литературного алгоритма,
в) при этом, в отличие от повествовательных жанров эта функция (в понимании Проппа — Бремона) является в газели условной и фиктивной, поскольку газель есть лирическое высказывание, и в этом смысле в ней наличествует попытка монологическими средствами достичь диалогизма,
г) подобная попытка, переданная посредством многоуровневых противоположений (круговой и сквозной характер композиции, сочетание монорима и нерифмованных строк, постоянство редифа при переменном характере строки, которую редиф замыкает, противопоставления на уровне поэтических фигур, языковом и метрическом уровнях и др.) предельно способствует созданию эмоционального напряжения, этоса по схеме: задание нормы — отклонение от нее — коррегирование отклонения,
д) многоуровневые противоположения, будучи стихийной диалектикой, создают чрезвычайно гибкую мыслительную структуру при внешней канонизированности её формы, и эта структура являет возможность посредством реального говорить об ирреальном, посредством конечного — о бесконечном, обнажая в самом себе этот приём.
Основываясь на этих положениях можно создать своего рода модель газели классического типа, тот «нулевой уровень» относительно которого мы намерены рассмотреть газельную структуру у Гарсиа Лорки.
Перейдем к рассмотрению газелей «Дивана Тамарита», соотнося их с вычлененной моделью восточной классической газели. Вот названия газелей Лорки: «О нежданной любви», «О безнадежной любви», «О любви, которая не может себя увидеть», «О горьком корне» и т.д.
К сожалению, нет достоверных данных о том, что «Диван» формировал сам Лорка, хотя некоторые испановеды, читавшие эту статью, язвительно писали, что Лорка-де читал гранки этой работы, но как бы-то ни было, видимо, трудно найти авторскую композиционную идею в порядке следования газелей, изданных впервые под этим названием уже после смерти поэта. Будем придерживаться общепринятого в лорковедении мнения, что газели в «Диване Тамарита» посвящены в основном — любви, а касыды — метафизическим вопросам бытия и внутри этого противопоставления рассмотрим лишь газели.
«Газель о непредвиденной любви» — монорим, строфически разбитый на четыре четверостишия. Все пять композиционных или морфологических элемента газели здесь наличествуют. «Она» первоначально дана косвенно, через невозможность восприятия, «не»-восприятия другими: (1-я строфа) её прекрасной плоти (живот, зубы, лоб, в лунном свете которого спят тысячи персидских всадников). Здесь же следует обратить внимание на «мерцательное» построение образа, посредством сочетания цветовых, субстантивных, скрытых смысловых оппозиций: темнота — живот, птенец любви — зубы, лунная площадь — лоб и др.
Второе четверостишие, продолжая своего рода «васф», описание возлюбленной, вместе с тем, соединяет её с лирическим героем, причём это соединение из-за многозначности образа «тысяча персидских всадников спало на площади с луной твоего лба», через оппозицию: «сон-явь», может быть прочитано и как правда, и как вымысел. «Четыре ночи» — это деталь правды, но соотнесение «соперницы снега» — талии с «темнотой магнолии живота» — с одной стороны обращает в явь тысячу персов и перемещает в сон их соединение, и с другой стороны, эта же многозначность придаёт любви вневременность, помещённую в «четыре ночи».
Газельная техника параллельных противопоставлений, контрастов освоена Лоркой в совершенстве. Вот ряд противопоставлений 2-ой строфы: тысяча персов — лирический герой (много — один), всадники — лунная площадь (движение — покой), площадь — луна (верх — низ), спали — обнимал (бездействие — действие), лоб — талия (дух — плоть), ночь — снег (чёрное — белое), и всё это — «он» и «она», «я» и «ты».
Следует заметить также, что «никто» из первой строфы персонифицируется здесь в»тысячу персидских всадников», но 1001-ый — это сам лирический герой.
Третья строфа продолжает «развоплощать» образ возлюбленной, делая её тем самым всё более идеальной и духовной; вот её атрибутивный, подчёркнутый рифмами ряд: живот — зубы — лоб — и наконец, взгляд, уступающий место в рифме, прежде чем лирический герой даст всему этому статус вечности: «навсегда» (siempre).
Здесь же растительное и тварное начала, соотнесённые уже в первой строфе (магнолия — птенец) на фоне «никто», продолжены затем в виде «гипс — жасмины — взгляд», но взгляд сам обретает растительное свойство: «бледная ветвь», которое по правилу транзитивности является тем же для гипса, чем для него самого — тварность или телесность, ищущая и выдающая из груди буквы слоновой кости, гласящие «навеки».
В четвёртой строфе это «навеки» становится садом агонии поэта, белым зимним садом магнолии живота, талии — соперницы снега или метели, жасминов и бледных веток взгляда, садом, в котором развоплощена и растворена «мимолётным телом» любимая. Причём и здесь возможно двоякое толкование второй строки: «твоё мимолётное тело навеки» и как «мимолётное навеки», и как «тело навеки». Птенец любви, мучимый зубами, дал вечную мимолётность всему телу возлюбленной. В этом белом саду «навеки» ценой небытия соединены поэт и его возлюбленная, и это — иная жизнь, как совершенно иной всему доселе белому — красный цвет крови и губ, алкавших как источника — этого «навеки»: «кровь твоих вен на моих губах, твои губы без света на мою смерть». Поцелуй крови и пустоты, бытия и небытия, который и есть эта вечность.
Итак, из этого краткого анализа первой газели Лорки, можно заключить, что почти все атрибуты классической газельной техники им сохранены. Это монологическое, чисто лирическое высказывание, в котором лишь единственный раз дано право другого голоса буквам из слоновой кости, как адамову ребру, из груди поэта, произнести слово «навеки». Оба главных семантических полюса газели: «он» и «она», разделённые непреодолимой разлукой, здесь представлены, также как и другие традиционные силы: противостоящие — тысяча конных персов, изначально данные в форме «никто», причём они же являются и споспешествующими силами, выявляя как зеркало, мучительность, красоту и вечность любимой. Упомянутая контрастность, присущая всем элементам газели, в полной мере выдержана Лоркой. Этому свидетельство — приведённые выше оппозиции и главная из них, как и всякое, синтезирующее в себе всё предыдущее, есть не только противопоставление, но и единство. Это — Любовь и Смерть — типологические меты творчества Лорки.
Газельная обречённость на невозможность преодоления расстояния между «я» и «ты», кроме как памятью в прошлом, воображением в будущем и смертью в настоящем, делает это «навеки», обнимающее все времена, сладостным и зловещим, желанным и мучительным. Такова любовь непредвиденная, непредсказуемая, каждым своим атомом увековечивающая себя, чтобы тут же уничтожить, уничтожающая, чтобы увековечить…
В чём же меняет Лорка традиционную структуру газели?
С точки зрения формы, его газель написана не бейтами, а четырьмя четверостишиями, и композиционно, по расположению поэтического материала, она соединяет в себе газельную и сонетную (в более широком смысле — сонатную) формы. Так, в первой строфе задаётся тема непознанного совершенства любимой и связанных с этим любовных мучений. Но вместе с тем, в отличие от классической газели, здесь же в своём небытии («никто»), даны потенциально противостоящие силы.
Вторая строфа развивает тему, персонифицируя этих «никто» и «птенца любви», а также перемещая отношения из сферы условно-отрицательного в магическое поле персидских сказок и вымысла, а затем в реальность четырёх ночей с любимой. Одна фраза: «талия — соперница снега» стоит всех предыдущих описаний, предполагая: соперница по цвету (или ослепительно белая, белее снега, или же противостоящая темнотой, но в любом случае мерцающая), по жару (холодный снег), по мыслимому расположению (снег ледащий или же идущий в открытом пространстве), по цельности, по вечности и т.д.
Третья строфа — скерцозная, в ней антитезис, который и есть газельный аудж — кульминация. В ней любимая впервые обретает целостность и эта целостность, составленная изо всех предшествовавших частей, равна кульминационному «навеки», и наоборот, её образ начинает развоплощаться, сначала до упоминания груди, затем, в 4-ой строфе до губ и до смерти лирического героя. Это антитезис и потому, что в чувственных, плотских ощущениях появляется вторая, знаковая реальность — увековечивающие буквы слоновой кости. Убив живое чувство и переведя его в знаки, можно отыскать в груди это «навеки».
Четвёртая, финальная строфа завершает композицию. Образ любимой опять рассыпается на тело, кровь, вены и губы, но в этих губах теперь птенец любви мёртв, как умирает разорванный сад в агонии духа.
И, наконец, традиционное обращение к кравчему, дающему успокоительное вино, здесь заменено кровью из вен любимой, оставшейся в том «навеки». Последний поцелуй — это уже поцелуй смерти, и тахаллус или имя того, чьи губы прикоснулись к её венам, уже поставлен быть не может.
Если теперь сравнить в самом общем виде эту газель Лорки с газелью Навои, то можно ещё отчётливей увидеть различие в решении одной и той же поэтической задачи. Прежде всего, с точки зрения автора или лирического героя высказывание Навои обращено к двум адресатам: ко внешнему множеству и к самому себе. Высказывание Лорки обращено к возлюбленной. Это, своего рода, драматическая медитация. Причём следует сказать, что почти все газели «Дивана Тамарита» решены именно так, в технике прямого обращения.
И если у Навои трагичность ситуации задана изначальной отчуждённостью возлюбленной, то у Лорки трагедия в том, что обращение, имея адресата, не имеет ответа. Если у Навои лирическое «я» присутствует во всех бейтах, кроме шестого, когда его заменяет то самое лоркианское «никто», то у Лорки лирическое «я» упоминается значительно реже. Ему как бы важнее отношение любимой, нежели отношение к любимой, как у Навои. Ведь если у Лорки почти вся газель посвящена описанию любимой, то хоть почти то же самое можно сказать и о газели Навои, но направленность этих описаний противоположная. Лорка как бы говорит о совершенстве своей любимой, самой любимой, а Навои мучит этой любимой самого себя. Лорка детализирует описание возлюбленной. Навои очерчивает её двумя-тремя штрихами, сосредотачиваясь на своих переживаниях. Иными словами, здесь своего рода экстравертный и интравертный способ выражения.
Ещё одно отличие авторской позиции в том, что если у Навои безысходность проистекает из «неприхода» любимой, то у Лорки эта безысходность — от ухода её, и если у Навои возлюбленная помещена в пространство воображения, то у Лорки она в пространстве памяти лирического героя. Навои, глядя в прошлое, оставляет будущее за надеждой, а Лорка это же прошлое распространяет и на вечность. Иначе говоря, в первом случае восприятие времени дискретно, во втором — интегративно, но с другой стороны, если у Навои время продолжается, то у Лорки оно замыкается и останавливается, образуя в миг смерти это «навеки».
И, наконец, об опосредующих силах. Лорка задаёт их с самого начала, и как бы от всеобщего «никто» эти силы через персонификацию в 1000 персидских всадников перетекают в одну-единственную «мимолётную» отчуждаемую возлюбленную. В конечном итоге поэт остаётся один на один со своей любовью и смертью. У Навои же сначала строится пространство мысли, где сосуществуют в разделённости поэт и его возлюбленная, и лишь затем, в четвёртом бейте, а именно ровно после половины газели появляется «некто», существование которого, точно как у Лорки, гипотетично, а стало быть абстрактно, всеобще. Этот «некто» затем получает статус собеседника, но в той же степени гипотетично персонифицированного, и затем он обращается в единственного «требователя верности», которого также не существует. А существует в своей собственной отчуждённости лишь поэт, отчуждение которого закрепляется формально с помощью тахаллуса, когда он обращается сам к себе: «О, Навои». Подобное понимание роли и значения тахаллуса в газели позволяет предположить, что здесь эти самые опосредующие силы являются ничем иным, как функциями лирического «я» поэта в измерениях «я — не я», «я — единичное», «я — особенное», «я — всеобщее».
Прослеженные направленности при различном техническом, с точки зрения стихотворчества, оформлении, всё же более близки, нежели различны, и своеобразно используют богатство возможностей поэтики газели, хотя, как было сказано выше, эти различения можно рассматривать и эволюционно- типологически.
Вместе с тем, не давая «права голоса» иному семантическому полюсу газели, оба эти произведения остаются в пределах монодийного, монологического способа мышления, с его бесконечно богатым варьированием немногих однотипных элементов воспринимающего и самовыражающего «я».
Более или менее подробным рассмотрением первой газели Лорки мы подготовили своего рода базу для рассмотрения поэтики газелей «Дивана Тамарита» в целом.
Вторая газель «Об ужасном присутствии» решена в технике месневи, т.е. двухстрочной рифмовки. В этой газели поэт жаждет и может увидеть всё запредельное, потустороннее, в которое облекаются те самые условия газельной морфологии, и только отказывается смотреть на наготу своей возлюбленной, предпочитая ей тоску тёмных планет. Если считать эту газель композиционным продолжением первой, то это взгляд поэта из потустороннего, из вечной тьмы, и по сравнению с семантикой классической газели, лирический герой сам отвергает встречу с любимой, но отвергает эту встречу из желания сохранить возлюбленную в пределах земного мира, сохранить её живой, вне смерти.
Третья газель «О безнадёжной любви» продолжает это композиционное движение. В ней мертвы и он, и она — оба лирических героя газели. Эта газель линейно симметричная трёхчленная форма противопоставлений:
1) «Ночь (день, ночь и день) не хочет приходить, ибо ты не пришла, и я не смог прийти».
2) «Но я приду, хотя…»
3) «Но ты придёшь…»
Это как бы редиф газели, её неизменная часть. И лишь в последний раз второй и третьей части этой композиции нет, ибо и он, и она мертвы друг для друга. Изменяются лишь условия прихода
1) его: «хотя солнце скорпиона укусит меня в висок», «встречая у жаб мою мёртвую гвоздику» для прихода ночи и дня,
2) её: для ночи — «с языком, обожжённым соляным дождём», «мутными клоаками темноты». Постоянный сюрреализм этой переменной части усиливает вневременность происходящего или наличествующего.
Если сравнить эту газель с газелью Навои, то видно, что Лорка лишает время всех его выходов кроме отрицательного течения: ни ночь, ни день. Это действительно время небытия любви, время с отрицательным знаком, составляющее необходимую часть вечности. Отсюда следует, что лишь любовь даёт течение времени, лишь в любви существуют ночи и дни, и что она есть преодоление вневременности смерти.
Эти алогичные условия, выраженные изменчивой частью газели и есть попытка к надежде любить, которая гасится мёртвой структурой, но которая вне этой структуры, вне дня и ночи существовать не может.
Следующая газель также строится на подобном формообразующем принципе: сочетании частично неизменной строфы — редифа, повторённой трижды, и двух однотипных бейтов о Гранаде, которая уподобляется луне, утопающей в апельсинах и розе во флюгерах. Рефрен же имеет такую форму: «Только чтобы услышать колокол Велы…» и в трёх случаях называются три разных действия:
а) я вплёл тебе в венок вербену,
б) вырубил сад в Картахене,
в) обнял твоё тело, не зная, чьё оно.
В этих трёх действиях и впрямь скрытно заключён тезис — антитезис и синтез обеих посылок. Совмещённое с боем колокола Велы и сравнениями Гранады сначала с луной, что неподвижна и неразличима в апельсинах, а затем с крутящейся розой флюгеров и серной, это переменное — есть вселение в неуловимое тело всего упомянутого, вдохновение в это неразличимое тело любви. Ведь это тело — и колокол Велы, и Гранада — луна, роза, любимая.
Следующая газель: «О мёртвом ребёнке» и две другие — «О тёмной смерти» и «О бегстве» стоят несколько особняком в этом любовном цикле. Все три газели, перемежённые любовными произведениями, говорят о смерти мальчика, и если не считать их примыкающими к касыдам «Дивана», тогда следует отнести их к разработке Лоркой одного из семантических полюсов газели, а именно души лирического героя. Вместе с тем, просматривая общую композицию газельной части «Дивана Тамарита», можно заметить, что в последующих газелях нет чувственной эротики, с которой начинался цикл. Любовь как бы всё более и более изживает свою чувственность, всё более одухотворяясь. Более того, живая любовь как бы и вовсе осталась за пределами «Дивана», в его предбытии, в тех самых «четырёх ночах, ему предшествовавших, памятью которых и является сам «Диван». Но об этом несколько позже.
А пока, возвращаясь к газели «О мёртвом ребёнке», заметим, что эта газель о любви к тому и разлуке с тем, кто сам должен был любить, иначе говоря это любовь любви, любовь второго порядка, если воспринимать эту газель в том композиционном контексте, который предложен нами выше. Действительно, если предположить на месте мёртвого мальчика возлюбленную, то все семантические, формообразующие моменты соответствуют морфологии традиционной газели.
Композиционно эта газель построена как и первая газель «Дивана» — на сочетании газельной и сонатной форм. В первой строфе задаётся тема: «Каждый вечер в Гранаде умирает ребёнок и вода садится беседовать с его друзьями». Вторая строфа развивает тему, во-первых, обращая этих друзей в мёртвых, носящих крылья водорослей, во-вторых, продолжая этот невозможный полёт в другой сфере посредством двух ветров — облачного и чистого — двух фазанов, летящих на башни (не флюгера ли это?), и в-третьих, воплощая, или вернее, развоплощая потерянного мальчика (уже не ребёнка!) в потерянный день. Третья строфа антитетична, не оставляя в воздухе «ни крошки жаворонка, когда я встретил тебя в пещерах вина». Здесь впервые появляется лирический герой с его прямым обращением. «Не остаётся и на земле ни крупинки облака, когда ты утонул в реке». Нет нигде этого полёта, ни в небе, ни на земле. Это соотнесение лирического героя, глядящего в воду и утонувшего ребёнка, зеркально помноженное предшествующими противопоставлениями, рисует нам Нарцисса, глядящего в воду и оплакивающего собственное отражение, утопающее в собственных слезах…
Четвёртая строфа синтезирует в себе и рухнувший полёт: «демон воды падает на горы», и смерть утонувшего, как холм, окружённый собаками и лилиями, и умерший день, утопший в фиолетовой тени ладони, и лежащего не в воде, а на берегу, подобно мёртвому архангелу льда. Так приходит ночь без зеркала, такова любовь без возлюбленной и возлюбленного, умершего мальчиком, таково время, утонувшее в собственном отражении.
Газель «О горьком корне» продолжает тему любви. Являясь моноримом, написанным в основном двустрочиями, эта газель как бы сохраняет традицию, но вместе с тем, это одна из самых своеобразных по поэтическому решению газелей Лорки. Здесь нет традиционных полюсов, традиционно явленных цветистых образов и других атрибутов газельной техники. Здесь есть самый горький корень, утверждение о существовании которого перемежается с параллельным существованием мира тысячи террас и неба тысячи окон. И есть дверь воды, которую не открыть даже маленькой руке. Этот образный ряд свидетельствует о связи газели с предыдущими («Газелью о мёртвом ребёнке»), и как бы продолжает сквозную композицию «Дивана», уводя любовь ещё в большие глубины -в самый корень её существования.
О том, что этот горький корень есть корень любви, о том, что к нему стекает лицо, обращённое внутрь, мы узнаем из последнего бейта, выворачивающего наизнанку элементы морфологии газели: «Любовь, мой враг, погрызи свой горький корень!»
Врагом, противником, соперником оказывается сама любовь, горькая как тот корень, который рондообразно даёт ростки по всей газели. Всё в этой газели, возвращаясь на круги своя, обнаруживает свой горький корень — горькую любовь.
Седьмая газель «Дивана Тамарита» — «О воспоминании любви» задаётся целиком своим названием, и если придерживаться предположения о композиционной целостности «Дивана», то дважды повторённый бейт этой газели: «Меня отделяет от мёртвых стена из дурных снов» перемещает ту любовь, где погибли оба, из своей чувственной телесности в пространство воспоминания, как в «дрожь белой черешни в муках января» или как в «гипсовое сердце, в котором жалобы лилии». Живое и мёртвое, разделённое стеной снов, когда глаза становятся псами, сторожащими эту стену…
Но вот туман покрывает в тишине серый холм тела любимой и вдруг стена становится свищущей пустотой, которую поэт просит оставить как воспоминание в своей груди, облегчая уходящий путь любимой хотя бы этой пустотой…
Когда смерть отнимает любовь и любимую, оставляя под аркой встречи чашу цикуты, то любовь к тому даже смертельному, что осталось воспоминанием о любимой, разве не сильнее страха смерти? «Но оставь твоё воспоминание, оставь его только в моей груди». Так любовь к смерти побеждает ужас перед ней.
И в подтверждение этой сквозной тематической разработки, следующая газель называется газелью «О тёмной смерти». Здесь нет образа любимой, здесь есть лишь ребёнок, который жаждет разорвать своё сердце в древнем море, ребёнок, сном которого хочет уснуть поэт. Он хочет уснуть этим сном, чтобы проникнуть в тайну того рассветного сострадания к плачу, заполнившему всю землю, в тайну первозданной любви, чтобы жить с этим тёмным мальчиком, хотевшим разорвать своё сердце в древнем море плача и любви.
Девятая газель цикла — «Газель о чудесной любви» с точки зрения её формы есть образчик пристрастия Лорки к музыкально-строгой композиционной технике с использованием параллелизмов как прямых, так и хиазматических. Схема строфики газели такова: 3-3-2-2, причём рифмуется первая с третьей и вторая с четвёртой строфой. Две первых строфы имеют одинаковое синтаксическое строение: «Со всем гипсом/ бедных полей/ ты — тростник любви, жасмин увлажнённый//» и «С ветром и пламенем/ бедных небес/ ты — шелест снега в моей груди//».
Кто здесь «ты»? Цветок, растение, возлюбленная или весь мир, как любовь? Или же это — невозможность и чудо явления и влажного жасмина, и шелеста снега? Две следующие бейтовые строфы: «Небеса и поля/ надели оковы на мои руки//» и «Поля и небеса/ бичевали язвы моего тела//» — также параллельны и соотнесённые соответственно рифме 1-3, 2-4, они усиливают невозможность, недостижимость как для скованных рук — жасмина или тростника любви, так и исцеления ран под шелестом снега. И эта невозможность, недостижимость объяла собой и небеса, и землю. Но ведь росток любви растёт — и не это ли чудо?!
Здесь нет традиционной газельной расстановки сил, здесь есть самый дух газели, выросший в тростник из горького корня, и если скзать, что любовь здесь одухотворена предельно, до невидимости, но в ней растворён весь мир с его небесами и полями, снегом и ветром, пламенем и цветами, то не в этом ли чудо маленькой газели?!
Следующая газель — «Газель о бегстве» примыкает к двум предыдущим о смерти ребёнка. Есть здесь нерегулярно повторяющийся рефрен: «Я много раз затеривался в сердцах нескольких младенцев». Этот рефрен скрепляет весь образный ряд газели: и срезанные цветы, и язык, полный любви и агонии, и ночь, убийственно обнажающую, и розу, ищущую черепные холмы, и человечью руку, повторяющую корень под землёй. Есть все ключевые образы, кроме возлюбленной, и не в этом ли бегство, давшее название газели? Во всём перечисленном таится смерть. Безликая, она многолика, а потому не упомянуть любимую — это как отвести огонь от гнезда, это как ребёнку не знать о её смерти: «Преодолевая воду, иду, ища смерть луча, который изнуряет». Таков высокий свет несказанной любви.
«Газель о столетней любви» построена на обыгрыше последовательно убывающего назывного рефрена — «Ай!» «Поднимаются по улице четыре кавалера, ай, ай, ай, ай. Возвращаются вниз три кавалера, ай, ай, ай. Показывают стать два кавалера, ай, ай. Как обернулся один кавалер и ветер! Ай! По закоулкам теперь не проходит никто». Такова губительная сила любви. Она и на том конце улицы, откуда не возвращаются, и на том, где остаются — даже более чем одинокими — опустошёнными.
И, наконец, последняя газель «Дивана Тамарита» — «Газель об утреннем рынке», которая как бы синтезирует в себе проблематику почти всех предыдущих газелей цикла. Причём, прежде чем переходить к её рассмотрению, следует высказать предположение, что сам «Диван» газелей построен по законам газельной композиции, а именно, первая газель цикла исполняет роль своего рода матлаъ — зачина, а последняя — мактаъ — финала и развязки.
Так, с точки зрения формальных характеристик газели, в этом стихотворении выделен редиф, но он вариативен. С одной стороны вся газель зарифмована, но с другой — это не монорим, с одной стороны рифмовка ассонансная, когда по правилам испанского стихосложения рифмой считаются например «Эльвира» и «кристалл» и с другой стороны рифмовка по созвучию.
Подобный синтез взаимоисключающих противоположных тенденций, разработанных в газелях цикла, характерен и для содержательного уровня последней газели. «Диван Тамарита», начинавшийся с развоплощения телесного и выявивший сначала предельно духовное, а затем и пустое, возвращается здесь обратным путём: достаточно сравнить вариативные части в трёхкратном рефрене — редифе, а именно: «чтобы узнать твоё имя», «чтобы выпить твои глаза» и, наконец, «чтобы ощутить твои бёдра», дабы заметить всё большую телесность и плотскость образа. Но во всех трёх случаях результат один и тот же: «и заплакав, уйти», точнее «приняться плакать».
Что же касается двух промежуточных строф, то они — шестистрочники с регулярным синтаксисом: здесь каждое предложение занимает ровно один бейт, т.е. две строки, и если в первой строфе все три предложения — вопросы, то во втором — все восклицания. Причём, синтетитческая тенденция сохраняется даже в том, что конструкции как вопросительных, так и восклицательных предложений однотипны: «Что за луна серая снова заморозила тебе щёки?» и «Что за голос мне в наказание поднимается над рынком!»
Иными словами, эта газель — прекрасно уравновешенная композиция. Все вопросы обращены к безымянной возлюбленной, восклицания же объединяют возлюбленную и лирического героя в пределах одного высказывания, но и оно парадоксально: «Как далеко я, стоя с тобой, как близко, когда ты уходишь». И не эта ли строка объясняет весь цикл газелей, как бы существующих в пространстве и времени после четырёх ночей объятий и до ощущения бёдер под аркою Эльвиры, т.е. вне телесного, в любви всё более одухотворяющейся: от любви — желания, через безнадёжную любовь — любовь непостижимую — горькую, к любви как воспоминанию, к любви — как смерти, и тем не менее своим чудом оживляющую и воскресающую к жизни на самом пределе своего существования через свою одухотворённость.
» Как далеко я с тобой, как близко, когда ты уходишь» -вот синтезирующая мактаъ этой газели и всего газельного цикла из «Дивана Тамарита».
Можно было бы детально анализировать каждую из газелей Лорки, начиная от их звукописи и кончая употреблением поэтических фигур, однако нам важнее выявление концептуальной основы «Дивана», которая через формообразующие моменты так или иначе выражается во всех элементах структуры газели, что достаточно явственно прослеживается из обобщённого анализа цикла.
Говоря об этой основе, нельзя не вспомнить другого великого поэта Андалусии — арабоязычного Ибн-Хазма и прежде всего его главного произведения — «Ожерелья голубки», средневекового трактата о любви. Вкратце напомним, что в этом трактате Ибн-Хазм пытается, по его словам, рассмотреть корни любви (вспомните газель Лорки о горьком корне), о случайностях любви, которые («акциденции» по выражению самого автора) правильнее перевести как проявления любви и её свойств, похвальных и порицаемых, о бедствиях, постигающих любовь, с наивысшим из них — разлукой, забвением, смертью.
Даже это краткое упоминание об «Ожерелье голубки» способно показать, насколько проблемный круг описываемого нами цикла и тратктата близки. Уместно сказать, что весь «Диван Тамарита» вторую часть которого, состоящую из касыд мы не рассматривали, заканчивается касыдой «О тёмных голубках». Но именно эта касыда, близко соотносящаяся с газельным циклом «Дивана» и различает любовь в понимании Ибн-Хазма и его земляка Гарсии Лорки. Если у Ибн-Хазма в его трактате голубка — это символ самой любви, её сладострастия, то у Лорки две голубки символизируют два лика Ничто — Любовь и Смерть.
Соотнесение «Дивана Тамарита» с «Ожерельем голубки» позволяет выявить чётче высказанную выше мысль о спиралевидной композиции всего «Дивана», композиции, выражающей с одной стороны ступени любви, и с другой подчёркивающей самоценность и самодостаточность каждой из них. Ведь каждая из ступеней любви несёт в себе по Лорке и свою смерть…
И, наконец, это соотнесение позволяет увидеть в их основании художественное преломление суфийских философских разработок, с большой детализацией различавших разнообразные ступени человеческих состояний и в мистифицированной форме постигавших диалектику индивидуального и общественного сознания. Ведь любовь в суфизме и средство, и цель постижения Абсолюта. И ступени, наподобие тревоги, привязанности, терпения, уверенности, упоения, растворения в Абсолюте, они соотносимы с рядом ступеней Лорки. Другой аспект, который мы могли бы рассмотреть отдельно — это преломление суфийских концептов или же архетипов, как сказали бы сейчас, в «Диване» Лорки. Ведь как мы упоминали выше, говоря о классической газели, в ней каждое понятие означает наряду с самим собой и нечто более глубокое, более абстрактное или символическое. Так, лицо возлюбленной — это мир красота Абсолюта, локон упавший на это лицо — акцидентальный мир с его случайностями, вино — это мистическое опьянение в единении с Абсолютом, кравчий или же мальчик, подающий чашу — это тот, кто встал на путь и т.д. и т.п. «Диван Тамарита» тоже построен из этих классических элементов газельной поэтики и их суфийское архетипическое истолкование — тема отдельного исследования.
Здесь же достаточно привести слова великого Хафиза о том, что «тот человек есть человек предсказания, кому достаточен намёк, много на свете умного, но где же наперсник тайн?» и добавить, что Гарсиа Лорка — этот самый наперсник тайн, с присущей ему гениальной отзывчивостью освоил мир классического восточного стихосложения и в особенности такой его универсальной формы как газель, и в своём творчестве продолжил и развил традиции Хафиза и Навои, Дехлеви и Джами, синтезировав их приёмы с приёмами новейшей западной поэзии, о которых иная речь.
Ташкент, 1984-85

